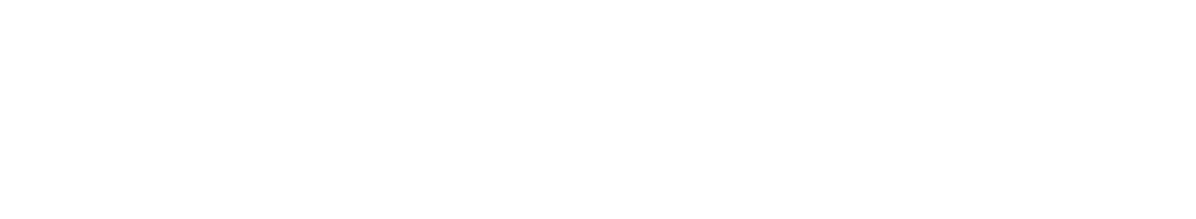Так говорила училка испанского, когда умер Сталин.
Она бодрым шагом вошла в класс и расчистила стол для своей головы. Потом, не глядя на нас, с умеренным стуком уронила голову на стол. Еще, каким-то предостерегающим жестом подняла ладошку, как бы говоря: «молчите, молчите, не сейчас…»
А мы и так молчали. У нас перед ней было уже два урока. И две другие училки тоже роняли головы. А потом делали горлом глотательные движения, это называлось «проглотить комок в горле», и говорили:
— Девочки, сегодня у нас большое горе… Умер наш дорогой товарищ Сталин…
Мне нравилось, когда кто-нибудь умирал… Даже если не такой великий. Даже если спекулянтка с третьего этажа, тетя Паша. Взрослые становились тихие и ласковые… Они с удовольствием показывали, что не стыдятся своих слез… И тем самым до окончания похорон как бы приближали нас, дворовую шпану, к своей взрослой жизни.
Я не хочу врать, что мы ждали смерти вождя. Но эти сводки о его состоянии, шепоток в коммуналке, что ОН уже умер, а «они» все скрывают… Мы с моими двумя подругами даже подозревали, кто такие «они». Конечно же, врачи-вредители, «убийцы в белых халатах»…
Дома-то бабушка, грозя кулачком потолку в коммунальном коридоре, вовсю проклинала Сталина… За моего папу, за меня — «сиротинушку», за то, что Бася Марковна живет в двух комнатах, а мы все — в одной…
Но все это выглядело как-то буднично и нестрашно. Может, потому, что в компании с вождем проклиналась моя мама, местечко на Украине, где ей, старшей из девятерых детей так и не нашлось «приличного» мужа.
Короче, мы, три подруги ждали смерти Сталина потому, что смерть была куда интересней болезни.
Пока голова нашей «испанки» лежала на столе, весь класс придирчиво всматривался друг в друга. Это были ростки коллективного подлого, которому потом, во взрослой жизни суждено будет проявиться или, спрятавшись, быть всегда под рукой… На всякий случай… Каждый изображал скорбь в силу своей артистичности. Валя Мищенко плевала на свои пальцы и смачивала ими свои длинные, редкие ресницы.
— Регулярная проверка качества ссылок по более чем 100 показателям и ежедневный пересчет показателей качества проекта.
— Все известные форматы ссылок: арендные ссылки, вечные ссылки, публикации (упоминания, мнения, отзывы, статьи, пресс-релизы).
— SeoHammer покажет, где рост или падение, а также запросы, на которые нужно обратить внимание.
SeoHammer еще предоставляет технологию Буст, она ускоряет продвижение в десятки раз, а первые результаты появляются уже в течение первых 7 дней. Зарегистрироваться и Начать продвижение
Повернувшись ко мне, она простодушно спрашивала шепотом: «Мне правда идет, когда я плачу? Мне все так говорят…»
Дорочка Львовская под партой терла свои и без того вечно красные, конъюнктивитные глаза…
Я ужасно хотела пИсать, но никак не могла вписАть это в свою скорбь…
Вдруг с последней парты раздался душераздирающий вой… Это Галя Юркова, двоечница и кривляка, решила не упустить свой шанс быть оставленной в покое хотя бы сегодня. Так воют на похоронах в деревне. Мы знали это по кино…
Пока мы с ошалелой завистью смотрели на голосившую Юркову, очнулась от своей каталепсии училка. Решив, что воет весь шестой «Б», она стукнула журналом по столу и произнесла привычным, классным голосом:
— Девочки, давайте плакать организованно!
Поняв, что это и мой шанс, я, задрав голову, (чтоб не «пролить слезы»), почти вслепую, снайперски выскочила за дверь.
Все это я вспомнила глядя на Фелю с мусорным мешком в руке.
Сначала я с запоздалой обидой на Сталина вспомнила, как из-за него мне дважды в один день не удалось выбросить мусор… Мы жили на пятом этаже без лифта, помойка была на «заднем» дворе… Когда меня не пускали гулять, я хватала полупустое ведро и бежала к помойке… Никто из мальчишек, играющих в футбол на заднем дворе даже не взглянул в мою сторону…
Не выпуская ведра из рук, я остановилась около площадки, «траурным» голосом произнесла:
Как вы можете играть в футбол, когда в стране такое горе?!
Стоявший у самой помойки и следивший за матчем дебильный дворник Васятка хлопнул себя по коленкам и, улюлюкнув, сделал вид, что хочет меня догнать. Стоит ли говорить, что меня, с моим мусором не мог бы догнать даже гепард…
Поздно вечером соседка, знавшая мою любовь к улице, решила сделать мне приятное и попросила вынести уже полное ведро… Я еще раз про себя отметила, что смерть не очень близкого человека делает соседей добрее…
Зайдя в деревянную пристройку с баками, я наступила на чью-то руку. С криками «мертвец, мертвец», я снова взвилась на пятый этаж. Снова с полным ведром…
Больше ничего интересного в этот день не было… Кроме одной и той же фразы, которую слышала еще много дней:
«Как же теперь жить», — спрашивал потерявший на войне обе ноги сосед Гусев..
«Как же теперь жить», — спрашивала отсидевшая три года за спекуляцию пьяница Дуся..
«Как же теперь жить», — спрашивал туберкулезный сосед чекист Альтухов..
«А что же теперь?» — спрашивала моя бесстрашная мама..
— Разгрузит мастера, специалиста или компанию;
— Позволит гибко управлять расписанием и загрузкой;
— Разошлет оповещения о новых услугах или акциях;
— Позволит принять оплату на карту/кошелек/счет;
— Позволит записываться на групповые и персональные посещения;
— Поможет получить от клиента отзывы о визите к вам;
— Включает в себя сервис чаевых.
Для новых пользователей первый месяц бесплатно. Зарегистрироваться в сервисе
Когда арестовали моего отца, мама не один год бомбила письмами разные инстанции. В 1996-м году, когда, благодаря Мемориалу, мне вернули копии допросов, листочки из папиных блокнотов, фотографии его, избитого во время «допросов», я нашла и одно мамино письмо Сталину…
Без «дорогой», без «товарищ», без заверений в папиной лояльности…
Это было гневное, требовательное письмо, полное упреков в «неумении подбирать кадры» и «если уж там работают одни идиоты, то пусть и ее посадят вместе с ним»…
Подобного я не встречала даже в литературе.
Догадывалась ли она, когда писала, что его давно нет в живых? Теперь уже не спросишь, мамы не стало за три года до этого.. А, главное, и не обнимешь ее, и не расскажешь, что я и не такая уж сволочь, какой иногда казалась…